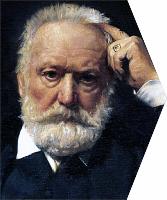
Козетта не могла удержаться от искушения искоса взглянуть на огромную куклу, все еще красовавшуюся в игрушечной лавке. Потом она постучалась: дверь отворилась, и на пороге показалась Тенардье со свечой в руках.
— А, это ты, бездельница! Долго же ты прошаталась! Наверное, где-нибудь забавлялась все время, негодная!
— Сударыня, — прошептала дрожащая Козетта, — вот господин пришел ночевать.
Тенардье мигом заменила свое свирепое выражение лица любезной гримасой, перемена, свойственная трактирщикам, и жадно устремила глаза на пришельца.
— Это вы? — сказала она.
— Да, сударыня, — отвечал человек, коснувшись шляпы.
Богатые путешественники не бывают так вежливы. Этот жест и взгляд, брошенный Тенардье на костюм и поклажу незнакомца, мгновенно согнали с ее лица любезную гримасу и опять заставили появиться свирепую мину.
— Войди, старичок, — сказала она сухо.
"Старичок" вошел. Тенардье еще раз окинула его взглядом, особенно тщательно осмотрела его сильно потертый сюртук и шляпу, слегка помятую, потом неприметным кивком головы, наморщив нос и мигнув глазом, посоветовалась с мужем, который продолжал пить с извозчиками. Муж отвечал легким движением указательного пальца, что в соединении с выпячиванием губ означало в данном случае: голь перекатная. После этого Тенардье воскликнула:
— Вот что, любезный, мне очень жаль, но у меня больше не найдется места.
— Поместите меня где хотите, на чердаке или в конюшню. Я заплачу как за комнату.
— Сорок су.
— Пусть будет сорок су, я согласен.
— Как, разве сорок су? — прошептал один из извозчиков хозяину. — Ведь мы платим по двадцать.
— А для него сорок, — бросила Тенардье, не изменяя тона. — Я бедных не принимаю за меньшую плату.
— Это правда, — прибавил муж с кротостью, — держать такой народ только срамить дом.
Между тем путник, оставив на лавке свой узелок и палку, уселся за стол, на который Козетта поспешила подать бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды, пошел сам поить лошадь. Козетта поместилась на обычное место под кухонным столом и принялась за свое вязанье.
Незнакомец, обмакнув губы в стакан вина, смотрел на девочку со странной внимательностью. Козетта была дурна собой. В счастье она похорошела бы. Мы уже описали эту маленькую печальную фигурку. Она была худая и бледная; ей было восемь лет, а на вид казалось не больше шести. Ее большие глаза, окруженные темными кругами, почти потухли от слез. Углы рта были тоскливо опущены с выражением, свойственным осужденным и отчаянно больным. Руки ее, как верно угадала ее мать, потрескались от холода. Пламя, освещавшее ее в ту минуту, особенно резко выдавало угловатость ее костей и делало ее худобу почти страшной. Так как она всегда дрожала от холода, то усвоила привычку прижимать коленки одну к другой. Ее одежда была сплошными лохмотьями, которые возбудили бы жалость летом и ужас зимой. На ней была одна дырявая холстина и ни клочка шерсти. Тут и там виднелось ее тело, покрытое синяками от побоев Тенардье. Ее босые ноги были красны и худы. Глядя на ее впалые ключицы, становилось жалко ее до слез. Вся фигура этого ребенка, ее походка, ее манера держать себя, звук ее голоса, робкая, запинающаяся речь, ее взгляд, ее молчание, малейший ее жест выражали одну мысль, одно чувство — страх.
Страх заполонял ее, так сказать, покрывал ее с ног до головы; страх заставлял ее прижимать локти к бедрам, подбирать пятки под юбку, стараться занимать как можно меньше места, удерживать дыхание; страх стал привычкой ее тела и мог только увеличиваться, а не уменьшаться. В глубине ее глаз был удивленный уголок, где гнездился ужас. Запуганность была до того сильна в ней, что, придя домой вся вымокшая, она не посмела посушиться у огня и молчаливо принялась за работу.
Выражение глаз этого восьмилетнего ребенка было обыкновенно так мрачно и порою так трагично, что иной раз можно было подумать, что она превращается в идиотку или в демона.
Никогда никто не учил ее молиться, ни разу в жизни она не была в церкви.
— Разве у меня есть на это время? — говорила Тенардье.
Человек в желтом сюртуке не сводил глаз с Козетты.
Вдруг Тенардье воскликнула:
— Кстати, а где же хлеб?
Козетта, по своему обыкновению, всякий раз как Тенардье повышала голос, живо выскакивала из-под стола. Она совсем забыла о хлебе и прибегла к уловке, свойственной запуганным детям. Она солгала.
— Сударыня, булочная была заперта.
— Надо было постучаться.
— Я стучалась.
— Ну и что же?
— Булочник не отпер.
— Вот погоди, завтра я узнаю, правда ли это, и если ты лжешь, то получишь знатную трепку. А покуда подавай сюда мои деньги.
Козетта опустила руку в карман передника и побелела. Монета в пятнадцать су исчезла.
— Ты слышала, что тебе говорят? — крикнула Тенардье. Козетта вывернула карман — ничего. Куда могли деваться деньги?
Несчастная девочка не находила слов. Она окаменела.
— Потеряла ты, что ли, деньги? — заревела Тенардье. — Или хочешь обокрасть меня?
Она протянула руку к плетке, висевшей на гвоздике у печки. Этот грозный жест дал Козетте сил закричать:
— Простите, сударыня! Я больше не буду.
Тенардье сняла плетку с гвоздя. Между тем человек в желтом сюртуке пошарил в жилетном кармане, незаметно ни для кого из присутствующих. К тому же остальные посетители пили или играли в карты, не обращая на него ни малейшего внимания.
Козетта с ужасом прижималась в угол возле печки, стараясь спрятать свои жалкие полунагие члены. Тенардье замахнулась.
— Извините, сударыня, — молвил человек, — но я сейчас видел, как что-то выпало из передника этой девочки и покатилось по полу. Быть может, это и есть, что вы ищете.
Он нагнулся и сделал вид, что шарит по полу.
— Может быть, это, — продолжал он, приподнимаясь, и протянул монету Тенардье.
— Да, это самое, — проговорила она.
Это вовсе было не то, а монета в двадцать су, но Тенардье получала барыш. Она сунула деньги в карман, кинув свирепый взгляд на ребенка и процедив сквозь зубы:
— Смотри, чтобы с тобой этого больше не случалось!
Козетта убралась в свою конуру, как ей велела Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомого путешественника, приняли небывалое выражение. Пока это было только наивным удивлением, но с примесью какой-то недоумевающей доверчивости.
— Кстати, хотите ужинать? — спросила Тенардье у путешественника.
Он не отвечал. Он казался погруженным в глубокую думу.
— Что это за человек? — бормотала она сквозь зубы. — Какой-нибудь отвратительный нищий, у которого нет даже гроша за душой, чтобы поужинать. Заплатит ли он мне за ночлег? Хорошо еще, что ему не вздумалось украсть деньги, что валялись на полу.
Отворилась дверь, и в комнату вошли Эпонина и Азельма. Это были две действительно прелестные девочки, скорее из буржуазной, чем крестьянской семьи; они были восхитительны, одна с блестящими каштановыми косами, другая с длинными черными локонами, ниспадающими до пояса, обе живые, чистенькие, пухленькие, свежие и здоровые, так что, глядя на них, сердце радовалось. Одеты они были очень тепло, но с таким материнским искусством, что толщина тканей нисколько не скрывала кокетливости наряда.
Эти две девочки распространяли вокруг себя свет. К тому же они держали себя как принцессы. В их наряде, в их веселости, в шумных играх проглядывала властность. Когда они вошли, Тенардье обратилась к ним в ворчливом тоне, в котором так и сквозило обожание.
— А, вот и вы пожаловали!
И, притянув их к себе, каждую по очереди, пригладив их волосы, поправив ленты, она потом отталкивала их от себя с той ласковой манерой трясти детей за плечи, которая свойственна матерям.
— Ишь как наряжены! — заметила она.
Они уселись у огня. У них была кукла, которую они вертели в руках с веселым щебетанием. Время от времени Козетта поднимала глаза от своего вязания и печально смотрела, как они играют.
Эпонина и Азельма не глядели на Козетту. Для них она была все равно, что собака. Этим трем девочкам вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже представляли собою человеческое общество — с одной стороны, зависть, а с другой — презрение.
Кукла сестер Тенардье была очень истрепанная, очень старая и поломанная, но тем не менее она была очаровательной в глазах Козетты, у которой за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы — выражение, понятное всем детям.
Вдруг Тенардье, ходившая взад и вперед по зале, заметила, что Козетта отвлекается от дела и вместо того, чтобы работать, занимается играющими девочками.
— А! Так вот как ты работаешь! Постой, будешь у меня работать, как попробуешь плетки!
Незнакомец, не вставая с места, повернулся в сторону Тенардье.
— Сударыня, — промолвил он с улыбкой почти боязливой, — позвольте ей поиграть.
Со стороны всякого путешественника, который съел бы ломоть жаркого, выпив бутылки две вина за ужином, и который наружностью не походил бы на гнусного нищего, такое желание было бы сочтено за приказание. Но чтобы человек в такой шляпе позволил себе высказать Желание, чтобы нищий в таком сюртуке осмелился выражать волю — этого Тенардье не могла вынести.
— Она должна работать, потому что жрет, — возразила она резко. — Я не могу кормить ее даром.
— Что это она делает? — продолжал незнакомец кротким голосом, представлявшим странный контраст с его нищенской одеждой и дюжими плечами носильщика.
Тенардье снизошла дать ответ:
— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулки для моих девочек, у которых их нет и которые ходят босиком.
Незнакомец взглянул на бедные, посиневшие от холода ноги Козетты и продолжал:
— Когда же она закончит эту пару?
— Работы осталось дня на три-четыре. Эдакая лентяйка!
— А сколько может стоить такая пара чулок, когда будет готова?
— По крайней мере тридцать су, — ответила Тенардье, кинув на него презрительный взгляд.
— А уступите вы их за пять франков?
— Черт возьми! — воскликнул один из извозчиков с грубым смехом. — Пять франков! Как не уступить! Еще бы! Целых пять кругляков.
— Да, — вмешалась Тенардье, — если такова ваша фантазия, сударь, то можно будет уступить. Мы ни в чем не отказываем постояльцам!
— Только деньги на стол сейчас же, — прибавил муж своим отрывистым, решительным тоном.
— Я покупаю эту пару чулок, — отвечал человек, выкладывая на стол монету в пять франков, — вот и деньги. Теперь твоя работа принадлежит мне, — обратился он к Козетте. — Ступай, играй, дитя мое.
Извозчик был до того поражен пятифранковиком, что бросил пить и подбежал к ним.
— Ишь ты, ведь и правда! — восклицал он, рассматривая монету. — Настоящее заднее колесо и не фальшивое!
Подошел Тенардье и молча сунул монету в карман. Жена его не возражала. Она принялась кусать губы, и лицо ее приняло выражение ненависти.
Между тем Козетта вся дрожала; с усилием решилась она спросить:
— Сударыня, правда, что мне можно играть?
— Играй, — заревела Тенардье грозным голосом.
— Благодарю, сударыня.
И в то время, когда уста ее благодарили Тенардье, вся маленькая душа ее была переполнена благодарностью к путешественнику. Тенардье опять принялся пить. Жена нагнулась к его уху:
— Что это может быть за птица этот желтый человек?
— Я видывал, — отвечал Тенардье глубокомысленно, — я видывал миллионеров, которые носили такие сюртуки.
Козетта перестала вязать, но не оставила своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вынула из коробочки, стоявшей позади, какие-то старые лоскутки и свою маленькую свинцовую саблю. Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на то, что делалось вокруг. Они только что совершили весьма важную операцию: завладели кошкой. Кукла была брошена на пол, и Эпонина, старшая, пеленала котенка, несмотря на его мяуканье и сопротивление, в множество тряпок, красных и голубых. Выполняя эту важную и трудную работу, она щебетала на прелестном детском языке, очарование которого, подобно яркой пыли на крыльях бабочек, отлетает, как только захочешь передать ее.
— Видишь ли, сестрица, эта кукла забавнее той. Она барахтается, она кричит, она вся тепленькая. Давай играть в нее, сестрица. Это будет моя дочка. Я буду дама и приду к тебе в гости; ты и станешь смотреть на нее. Вдруг заметишь, что у нее усы, и удивишься. Потом увидишь ушки и хвостик и тоже удивишься. Вот ты и скажешь: "Ах, боже мой!", а я скажу: "Да, у меня такая дочка. Теперь все такие девочки стали".
Азельма слушала Эпонину с восхищением. Между тем посетители загорланили непристойную песню и хохотали так, что стекла звенели. Сам Тенардье поощрял их и аккомпанировал.
Как птички вьют гнезда из чего попало, так и дети изо всего способны создать куклу. Пока Эпонина и Азельма пеленали котенка, Козетта, со своей стороны, запеленала свою сабельку. Она уложила ее на руку и тихо убаюкивала песенкой. Кукла — одна из самых необходимых потребностей и в то же время один из прелестнейших инстинктов женской натуры... Нянчить, одевать, наряжать, кутать, раздевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, представлять себе, что это живое существо, — в этом вся будущность женщины. Мечтая и болтая таким образом, нашивая приданое и пеленки, измышляя маленькие платьица, лифчики, фартучки, ребенок становится девочкой, девочка — взрослой девушкой, а девушка превращается в женщину. Первый ребенок — продолжение последней куклы. Маленькая девочка без куклы почти так же немыслима, как женщина без ребенка. Итак, Козетта устроила себе куклу из сабли.
Тенардье между тем подсела к желтому человеку.
"Муж прав, — думала она, — быть может, это сам господин Лаффитт. Есть богатые люди такие чудаки!"
— Господин... — начала она, положив локти на стол.
При этом обращении человек обернулся. До сих пор Тенардье величала его "старичком" или "любезным".
— Видите ли, в чем дело, — продолжала она слащавым тоном, еще более противным в ней, чем ее свирепость, — мне и самой хочется, чтобы ребенок играл, я не прочь, да ведь это хорошо раз, два, уж коли вы такой великодушный. Ведь у нее ни гроша нет. Надо работать.
— Так это не ваша девочка? — спросил он.
— Господи, какое наша! Это просто бедняжка, которую мы подобрали так, из милости. И какой-то тупоумный ребенок. Должно быть, у нее водянка в голове. Ишь какая башка, сами видите. Мы делаем для нее что можем, сами люди небогатые. Должно быть, мать ее умерла.
— A, — процедил незнакомец и снова погрузился в раздумье.
— Ну и дрянь же была эта мать, — добавила Тенардье. — Она бросила своего ребенка.
Во время этого разговора Козетта, инстинктивно предчувствуя, что речь идет о ней, не спускала глаз с Тенардье. Она смутно прислушивалась. Временами до нее долетали отдельные слова.
Между тем гости почти все перепились и повторяли свой бесстыдный припев с удвоенным весельем. То было веселье с особенным кощунственным оттенком: сюда примешивались имена Божьей Матери и Младенца Иисуса. Тенардье тоже присоединилась к мужчинам и принялась хохотать во всю глотку. Козетта под столом устремила на огонь неподвижный взор, в котором отражалось пламя; она снова принялась укачивать свои тряпочки и припевала тихим голосом: "Мать умерла! Мать умерла! Мать умерла!"
По настоянию хозяйки желтый человек-"миллионщик" согласился, наконец, поужинать.
— Что вам угодно кушать?
— Хлеба с сыром, — отвечал он.
— Нет, решительно это нищий, — подумала Тенардье.
Пьяницы продолжали горланить свою песню, а ребенок под столом мурлыкал свою. Вдруг Козетта запнулась. Обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую те бросили, занявшись котенком; она валялась на полу в нескольких шагах от кухонного стола.
Девочка уронила свою саблю, закутанную в лоскутки и не совсем удовлетворявшую ее, и медленно обвела глазами комнату. Хозяйка шепталась с мужем и считала деньги, Эпонина и Зельма играли с кошкой, посетители пили или занимались пением, никто не обращал на нее внимания. Нельзя было терять ни минуты. Она вылезла из-под стола на четвереньках; еще раз убедилась, что никто на нее не смотрит, с живостью прокралась к кукле и схватила ее. Через мгновение она уже была опять на своем месте, сидела смирно, неподвижно, повернувшись так, чтобы тень падала на куклу, которую держала на руках. Счастье поиграть куклой было до такой степени редкое, что имело для нее какое-то острое наслаждение.
Никто ее не видел, кроме незнакомца, который медленно ел свой скудный ужин. Эта радость продолжалась с четверть часа. Но какие предосторожности ни принимала Козетта, она не заметила, что одна нога куклы высовывалась и пламя освещало ее. Эта яркая розовая нога вдруг привлекла внимание Азельмы, и та шепнула Эпонине: "Посмотри-ка, сестрица!"
Обе девочки остановились пораженные. Козетта осмелилась стащить их куклу! Эпонина встала, не выпуская кошки, подбежала к матери и принялась дергать ее за юбку.
— Да оставь же меня в покое! — сказала мать. — Что тебе надо?
— Мама, гляди! — проговорил ребенок, указывая пальцем на Козетту.
А Козетта, вся поглощенная восторгом обладания своим сокровищем, ничего не видела, ничего не слышала.
Лицо Тенардье приняло то особенное грозное выражение, которое, примешиваясь к мелочам жизни, доставляет подобного рода женщинам прозвище мегер. На этот раз оскорбленная гордость еще усиливала ее гнев. Козетта переступила все границы. Козетта посягнула на куклу барышень. Так какая-нибудь королева, видя, как мужик примеряет регалии ее царственного сына, не смогла бы иметь более раздраженного вида. Она рявкнула голосом, хриплым от негодования:
— Козетта!
Козетта вздрогнула, словно земля разверзлась под нею. Она обернулась.
— Козетта! — повторила Тенардье.
Козетта взяла куклу и тихо положила ее на пол с каким-то благоговением, соединенным с отчаянием. Не отрывая от нее глаз, она сложила руки и, что страшно видеть у ребенка такого возраста, заломила их; у нее полились слезы, которых ни одно из страданий того дня не могло у нее исторгнуть, — ни путешествие в лесу, ни тяжесть ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже свирепые слова Тенардье. Она разразилась рыданиями.
Между тем путешественник поднялся с места.
— В чем дело? — спросил он.
— Разве вы не видите? — сказала Тенардье, показывая на жертву преступления, распростертую у ног Козетты.
— Так что же? — продолжал он.
— Эта негодница осмелилась тронуть куклу детей.
— И весь этот шум из-за таких пустяков! — заметил незнакомец. — Так что, если она и поиграла куклой?
— Она притронулась к ней своими грязными руками, — продолжала Тенардье, — своими мерзкими руками!
Рыдания Козетты усилились.
— Замолчишь ли ты? — крикнула на нее хозяйка. Незнакомец подошел к двери, распахнул ее и вышел.
Тенардье воспользовалась этим временем, чтобы пнуть Козетту под столом ногой, отчего девочка завопила во весь голос. Растворилась дверь, незнакомец вернулся, держа в обеих руках сказочную куклу, на которую любовались с утра все ребятишки села. Он поставил ее перед Козеттой и промолвил:
— Бери, это тебе.
Надо полагать, что в течение часа, который он провел там, погруженный в свои мысли, он заметил эту игрушечную лавку, освещенную плошками и свечами так великолепно, что ее видно было сквозь окна кабака, как иллюминацию.
Козетта подняла глаза; она видела, как человек подходил к ней с куклой, и ей казалось, что к ней приближается солнце, она слышала невероятные слова: "это тебе"; она взглянула на него, взглянула на куклу, потом медленно попятилась и забилась далеко под стол, в угол около стенки. Она уже не плакала, не кричала, она старалась затаить дыхание.
Тенардье, Эпонина и Азельма окаменели, как статуи. Даже пьяницы замолкли. В кабаке водворилась торжественная тишина. Тенардье, пораженная и безмолвная, соображала в уме: "Что это за старикашка? Нищий? Или миллионер? Быть может, и то и другое, то есть вор".
На лице ее мужа прорезалась характерная морщина, которая ярко подчеркивает человеческую сущность, когда на нем проявляется господствующий инстинкт со всей его животной силой. Кабатчик глядел поочередно то на куклу, то на незнакомца; он обнюхивал этого человека, чуя в нем мешок с деньгами. Это продолжалось какое-нибудь мгновение. Он подошел к жене и тихо пробормотал:
— Эта штука стоит по крайней мере тридцать франков. Без глупостей. На задние лапы перед этим человеком.
Грубые натуры имеют ту общую черту с натурами наивными, что они не знают переходов.
— Ну что же, Козетта, — сказала Тенардье голосом, который она силилась сделать кротким, но который выходил слащаво-кислым, как обыкновенно у злых женщин, — отчего ты не берешь куклу?
Козетта отважилась вылезти из своей норки.
— Моя маленькая Козетта, — начал муж Тенардье ласковым тоном, — господин дарит тебе куклу. Возьми ее. Она твоя.
Козетта уставилась на чудную куклу с каким-то ужасом. Лицо ее было еще облито слезами, но глаза сияли, как небо на утренней заре, странным блеском радости. В ту минуту ее чувство походило, на то, если бы сказали вдруг: "Девочка, ты королева Франции". Ей казалось, что если она притронется к кукле, на нее обрушатся громы небесные.
До известной степени это была правда, — она говорила себе, что Тенардье ее отругает и прибьет. Однако притягательная сила одержала верх. Она наконец приблизилась и робко промолвила, обернувшись к Тенардье.
— Можно, сударыня?..
Никакими словами не передать ее отчаянного, вместе с тем испуганного и восхищенного вида.
— Экая какая! — отвечала Тенардье. — Говорят тебе, она твоя. Господин подарил ее тебе.
— Правда, сударь? — пролепетала Козетта. — В самом деле правда? Эта дама моя собственная?
У незнакомца глаза были полны слез. Казалось, он дошел до той степени волнения, когда боишься говорить, чтобы не заплакать. Он кивнул головой Козетте и положил руку "дамы" в ее маленькую ручку.
Козетта с живостью отдернула руку, словно "дама" обожгла ее, и устремила глаза на пол. Мы должны заметить, что в эту минуту она несоразмерно высунула язык. Вдруг она выпрямилась и порывисто схватила куклу.
— Я назову ее Катериной, — проговорила она.
Наступило странное мгновение, когда лохмотья Козетты коснулись и смешались с лентами и свежими розовыми одеждами куклы.
— Сударыня, можно посадить ее на стул?
— Да, дитя мое, — процедила Тенардье.
Теперь Эпонина и Азельма глядели на Козетту с завистью. Козетта посадила Катерину на стул, сама присела на пол перед ней и оставалась неподвижной, не говоря ни слова, в позе созерцания.
— Играй же, Козетта, — молвил незнакомец.
— О! Я играю, — отвечал ребенок.
Этот незнакомец, этот пришелец, словно ниспосланный Провидением ради Козетты, был в ту минуту предметом, который тетка Тенардье сильнее всего ненавидела на свете. Однако приходилось сдерживаться. Это было волнение, которое она не в силах была преодолеть, хотя и привыкла к скрытности, подражая мужу во всех его поступках. Она поспешила отправить своих дочек спать и попросила у желтого человека позволения отослать и Козетту, "которая сильно умаялась за день", прибавила она с материнским попечением. Козетта ушла спать, унося Катерину в объятиях.
Тенардье то и дело ходила на другой конец комнаты, где был ее муж, чтобы "отвести душу", как она выражалась. Она обменивалась с ним словами, тем более яростными, что не смела высказывать их вслух.
— Старый черт! Какой дьявол сидит в нем! Пришел сюда нас беспокоить! Требует, чтобы этот урод играл! Дарит ей куклы. Куклы в сорок франков собаке, которую я саму с радостью отдала бы ей, сорок су! Еще не хватало, чтобы он величал ее вашим высочеством, как герцогиню Беррийскую! Есть ли тут какой-нибудь смысл? Он совсем помешался, старый колдун!
— Почему же? Дело простое, — отвечал Тенардье. — Если его это забавляет! Вот тебе нравится, чтобы маленькая работала, а ему нравится, чтобы она играла. Он имеет на это полное право. Если старик этот филантроп, тебе-то какое до этого дело? Что ты вмешиваешься? Деньги у него есть, и дело с концом.
Речь хозяина и трактирщика, не терпящая возражений. Человек облокотился на стол и снова погрузился в задумчивость. Все остальные посетители, торговцы и извозчики, успокоились и больше не пели. Они смотрели на него издали с какой-то почтительной боязливостью. Этот человек, так бедно одетый, вытаскивавший из кармана франковики с такой легкостью и одаривающий куклами маленьких замарашек в сабо, без сомнения, был богач щедрый и именитый.
Так прошло несколько часов. Полночное богослужение было совершено, рождественский пир окончился, пьяницы разошлись, кабак заперт, зала опустела, огонь в очаге потух — а незнакомец все сидел на том же месте и в той же позе и только порой менял локоть, на который опирался. Но он не произнес ни слова с тех пор, как ушла Козетта. Одна только чета Тенардье оставалась еще в зале из приличия и из любопытства.
— Неужели он здесь ночевать будет? — ворчала хозяйка.
Когда пробило два часа ночи, она объявила себя побежденной и сказала мужу: "Я иду спать. Делай с ним, что хочешь". Муж уселся за стол, в уголке, зажег свечку и принялся читать "Французский вестник".
Так прошло еще с час. Достойный трактирщик перечел по крайней мере раза три всю газету, от заголовка до названия типографии. Незнакомец не шелохнулся.
Хозяин стал возиться, кашлять, отплевываться, сморкаться, скрипеть стулом. Человек оставался неподвижен. "Уж не спит ли он?" — подумал про себя Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло вывести его из задумчивости.
Наконец Тенардье снял свой колпак, тихонько подкрался к нему и рискнул заговорить:
— Разве господину не угодно будет пожаловать почивать?
Сказать "идти спать" казалось ему в высшей степени неприличным и фамильярным. "Почивать" — это слово отзывалось роскошью и почтительностью. Такие слова обладают таинственной способностью раздувать на другой день цифру счета. Комната, где просто спят, стоит двадцать су; комната, где почивают, стоит двадцать франков.
— Ах, и правда, — промолвил незнакомец. — Где ваша конюшня?
— Пожалуйте, господин, — отвечал Тенардье с улыбкой, — я провожу вас.
Он взял свечу, незнакомец — свой сверток и палку; Тенардье повел его в комнату на первом этаже, отличавшуюся необычайной роскошью — мебель вся красного дерева, кровать лодкой, красные бумажные занавески.
— Что это такое? — удивился путешественник.
— Это, сударь, наша брачная комната. Теперь мы занимаем другую с супругой. Сюда входят раза два-три в год.
— Я предпочел бы конюшню, — резко кинул незнакомец.
Тенардье пропустил мимо ушей это нелюбезное замечание. Он зажег две новенькие восковые свечи на камине. Яркий огонь пылал в очаге. На том же камине под стеклянным колпаком красовался женский головной убор из серебристых ниток и померанцевых цветов.
— А это что такое? — полюбопытствовал он.
— Это свадебный убор моей супруги.
Путешественник кинул на этот предмет взгляд, в котором так и сквозила мысль: "Неужели же было время, когда это чудовище была невинной девой?"
Впрочем, Тенардье лгал. Когда он взял в аренду эту лачугу, чтобы открыть трактир, он уже застал убранство этой комнаты, купил и мебель, и померанцевый венок, воображая, что это набросит грациозную тень на его супругу и придаст его дому респектабельность, как говорят англичане.
Едва путешественник успел отвернуться, как хозяин уже исчез. Он незаметно удалился, не посмев даже пожелать покойной ночи, не желая третировать непочтительно человека, которого завтра же собирался порядком обобрать.
Трактирщик отправился в свою спальню. Жена его уже легла, но не спала. Услышав шаги мужа, она сказала ему:
— Знаешь, я завтра же выброшу эту Козетту вон.
— Ишь какая прыткая, — отвечал холодно Тенардье.
Они не обменялись больше ни единым словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.
Путешественник между тем положил в угол свою палку и узелок. Когда ушел хозяин, он сел в кресло и некоторое время оставался в задумчивости. Потом снял башмаки, взял одну из свечей, задул другую, отворил дверь и вышел из комнаты, озираясь вокруг, словно отыскивая что-то. Он прошел по коридору и уперся в лестницу. Тут он услышал какой-то тихий звук, похожий на детское дыхание. Ведомый этими звуками, он добрался до треугольного углубления под лестницей. Там, среди старых корзин, разного старого хлама, в пыли и паутине, была постель, если можно назвать постелью старый продранный тюфяк, набитый соломой, и старое дырявое одеяло. Простынь не было. Все это валялось на полу В этой постели спала Козетта.
Человек подошел к ней и долго не спускал с нее глаз. Она спала глубоким сном, одетая. Зимой она обыкновенно не раздевалась, чтобы не очень зябнуть. Она крепко прижала к себе куклу, большие глаза которой сверкали в потемках. Временами у девочки вырывались глубокие вздохи, точно она просыпается, и руки ее судорожно сжимали куклу. Около ее постели стоял всего один сабо.
Сквозь открытую дверь около жалкой конуры Козетты виднелась большая темная комната. Незнакомец вошел туда. В глубине ее, сквозь стеклянную дверь, выделялись две беленькие кроватки — Эпонины и Азельмы. За кроватками стояла плетеная люлька без полога: в ней спал мальчик, прокричавший весь вечер.
Незнакомец догадался, что эта комната сообщается со спальной супругов Тенардье. Он уже собирался уходить, когда взор его упал на камин — огромный трактирный камин, где всегда бывает такое слабое пламя и который имеет такой холодный, неприветливый вид. В камине огня не было, не было даже золы, но кое-что, привлекшее внимание путешественника. То были два детских башмачка разного размера и кокетливой формы; он припомнил древний милый обычай детей ставить обувь в камин на Рождество, в надежде, что их добрая фея опустит туда какую-нибудь блестящую монету. Эпонина и Азельма не изменили древнему обычаю, каждая из них поставила свой башмачок в камин.
Путешественник нагнулся. Фея, то есть мать, уже являлась и в каждом башмачке сверкала новенькая монета в десять су.
Он поднялся и хотел уйти, как вдруг увидел совсем в сторонке, в темном уголке очага, еще предмет. Он узнал деревянный башмак, безобразный сабо из грубого дерева, надтреснутый и сплошь покрытый золой и высохшей грязью. То был сабо Козетты. И она поставила свою обувь в камин с трогательной детской доверчивостью, которую легко можно обмануть, но которая никогда окончательно не теряет надежды.
Высокое трогательное чувство — надежда в ребенке, который никогда не знал ничего, кроме отчаяния. В этом сабо ничего не было. Незнакомец пошарил в кармане, нагнулся и опустил в сабо Козетты золотой. Потом он вернулся в свою комнату, пробираясь на цыпочках.
© «Онлайн-Читать.РФ», 2017-2024
Обратная связь